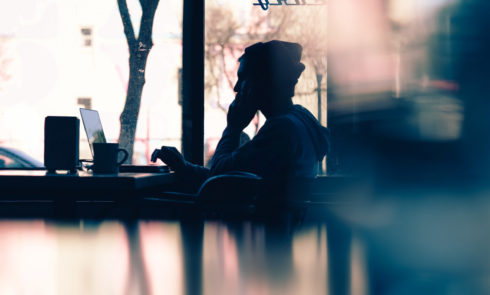Почему Международный уголовный суд в Гааге сосредоточился на депортации детей, а не на других военных преступлениях, к которым может быть причастен Владимир Путин? Как вообще собирается информация о таких преступлениях? Как работает процедура выдачи ордеров на аресты на глав государств? Зачем в здании гаагского суда существуют «комнаты тишины» и для чего люди, заходя туда, полностью раздеваются? «Холод» поговорил об этом с сотрудницей офиса прокурора Международного уголовного суда в Гааге Ксенией Хелль.
Это интервью — отредактированная версия разговора, состоявшегося в подкасте «Холода» о войне в Украине «Кавачай», который ведут украинская журналистка Анна Филимонова и редактор подкастов «Холода» Алексей Пономарев.
Алексей Пономарев: Владимира Путина и Марию Львову-Белову заподозрили в похищении детей, оставив в стороне другие военные преступления. Почему?
— Суд выпустил постановление на арест после того, как генеральный прокурор лично съездил в Украину, в Херсонскую область: он побывал в тех детских домах и детских лагерях, откуда детей забрали. И именно тогда он — это открытая информация, есть его заявление на веб-сайте суда — понял, что мы имеем дело с такой депортацией, с которой раньше суд не имел дела.
Раньше дела о похищении и перевоспитании детей возникали, когда речь шла о коренном населении Америки и Австралии: детей забирали, перевоспитывали в школах европейского образца, обучали английскому языку, и они забывали, откуда они.
Здесь имеет место совсем другое явление, потому что отучить украинского ребенка от русского языка обратно невозможно. Поэтому, если детей вывозят в таком масштабе и интегрируют, это действительно процесс необратимый. Дети коренных народов на худой конец выглядят отлично от европейцев. А полная интеграция украинских детей — это действительно возможно.
Из-за масштаба этих депортаций, вернувшись, генеральный прокурор сразу же сказал, что нельзя медлить ни одного дня. Потому что, во-первых, депортация продолжается. Суд не может физически этому воспрепятствовать, но, выдвигая обвинения сейчас, он информирует и подает однозначный сигнал всем, кто этими депортациями занимается: это никакая не эвакуация. Есть люди, которые непосредственно заняты в этой системе, они искренне верят, что это какие-то дети, которых спасли из-под обстрелов, и их эвакуировали, и сейчас их пристраивают в России. Выпуск постановления на арест для них — это как минимум повод задуматься.
Люди, которые прекрасно понимают, что они делают, но продолжают это делать, тоже получают информацию о том, что они являются военными преступниками, — это может заставить их задуматься и, когда за детьми приезжают их родители, хотя бы не препятствовать. Не задерживать этих родителей где-то на КПП, просто закрыть глаза на то, что уже депортированных детей вывозят куда-то в Европу или в Турцию окружными путями из РФ. Даже если это будет иметь такое минимальное последствие — это уже результат, потому что в каждом конкретном случае с этими детьми это значимо.
Также было открыто второе дело. Детали того, как идет следствие, не раскрываются. Но уже стало публичной информацией, что дел два: одно связано с детьми, а второе — со всеми остальными военными преступлениями.
Спасти детей, обратить эту интеграцию вспять можно прямо сейчас. Тех людей, которых уже убили, ту собственность, которую уже разрушили в Украине, не вернешь. Здесь время терпит, здесь нужно подходить без спешки. А вот с детьми ждать нельзя.
 Встреча Путина и Марии Львовой-Беловой. 16 февраля 2023 года. Фото: kremlin.ru
Встреча Путина и Марии Львовой-Беловой. 16 февраля 2023 года. Фото: kremlin.ruАнна Филимонова: Ну, кстати, после того как вышло постановление на арест Путина и Львовой-Беловой, детей начали возвращать — недавно очередных детей вернули в Украину. Как раз, по-моему, тех, кого из Херсонской области вывозили в так называемые лагеря.
— Да, спустя месяц с выпуска постановления на арест видно, что наш генпрокурор был прав. Действительно ждать было нельзя, и это действительно изменило то, как оккупационные власти ведут себя с детьми и как действует весь этот механизм, за который Мария Львова-Белова и отвечает. Кстати, она выступала недавно в ООН — это была пресс-конференция в МИДе, которую не без приключений, но все-таки показали в ООН. Я была шокирована тем, что уполномоченная по правам ребенка не знает, что даже в просторечии говорить «права на ребенка» — это недопустимо.
Алексей Пономарев: Это та речь, в которой она говорила, что у нее ребенок бегает и говорит «съем москаленка»?
— Она, во-первых, читала по бумажке, и читала запредельную чушь. Там были какие-то выражения типа «устройство детей под опеку», «формообразующая семья» — ужасные какие-то словосочетания. Шокирует, что уполномоченная по правам ребенка публично выступает и так говорит, причем на своем родном языке. Это были ужасные канцеляризмы, которыми обычно прикрывают все самое страшное, что только можно придумать, говоря о России.
Но, опять же, это постановление на арест попало в цель, оно изменило ее поведение. Несмотря на публичные заявления, что она вообще не понимает, о чем там идет речь, несмотря на это зачитывание по бумажке, они изменили свою позицию.
Анна Филимонова: Вы рассказывали «Службе поддержки», что украинское дело парализовало суд, потому что там очень много всего и переработать это очень сложно. В том числе и эмоционально.
— Когда вы находите пыточные или места массовых захоронений, доказать, что это военное преступление, подняться по цепочке и найти ответственных — очень трудно. В какой-то момент даже опускались руки. Казалось, что все, что мы делаем, бесполезно. Я составляю рассказ, на каждое слово в котором есть целая база доказательств, — а толку-то с этого. Во-первых, война продолжается, во-вторых, стало уже понятно, что это такой паттерн поведения и что везде будут находить массовые захоронения, везде будут находить пыточные. Еще неизвестно, что найдут, когда освободят Крым и Донецкую и Луганскую области.
Алексей Пономарев: Ну да, там же огромный лагерь «Изоляция». Наверняка там должно быть что-то…
— Да, и у них было огромное количество времени, чтобы скрыть вещественные доказательства. Стоит чуть-чуть поддаться этим мыслям, и руки действительно опускаются.
У нас в суде есть «комнаты тишины», куда ты приходишь, ложишься и просто молча лежишь и ничего не делаешь. А когда там никого нет, люди часто кричат что есть силы — это помогает. Громко матерятся всеми самыми страшными и сильными словами. Людям, которые носят форму или судейскую мантию, настолько хочется стряхнуть это с себя, что они заходят в эту комнату, в которой никто никаких вопросов не задает, и просто полностью раздеваются, потому что им хочется снять с себя эту одежду. Это тоже помогает.
И здание суда — это не секрет, но почему-то все удивляются — окружено рвом. Можно просто пойти посмотреть на воду и помочить ножки — это звучит совсем по-детски, но бывает, что и такие вещи помогают.
Могут прописать и препараты — бывает, это действительно нужно. Иногда отправляют принудительно в отпуск и не пускают обратно, пока не пройдешь психолога.
Алексей Пономарев: А предполагается какая-то ротация сотрудников суда? Действительно сложно столько ужасов в себя впитывать.
— Даже если сотрудник не подает никаких признаков выгорания, на обычных делах это срок в четыре месяца. Через четыре месяца всех сотрудников принудительно отправляют в отпуск, минимум на месяц. И чтобы оттуда вернуться на очередную ротацию, надо пройти психолога и медицинское обследование, потому что часто выгорание обусловлено тем, что человек просто физически не может целыми сутками работать. Я обычно проходила обратно на ротацию. Но в сентябре прошлого года, после того как освободили Харьковскую область — там был Изюм с массовыми захоронениями, — меня бомбануло так, что я смогла вернуться только через два месяца. Когда я попросилась обратно через месяц, я поговорила с психологом, и мне сказали, что меня допускать до работы обратно нельзя.
Анна Филимонова: Меня из последнего сорвало на кувалде. Хотя убили ЧВКшника, я настолько офигела от того, что люди так делают, что меня стоило бы отправить в отпуск.
— Вы знаете, прокурор вернул переводчикам перевод этого видео, решив, что они, наверное, что-то не так поняли.
Анна Филимонова: Прокурор не поверил, что на видео сказано то, что сказано?
— Да, они говорили: «Этого не может быть, вы, наверное, что-то не так поняли». Приносят перевод мне, а я говорю: «Нет, как раз переводчики все правильно поняли». «Такого не может быть, они не могут такое говорить прямым текстом!» Конечно, могут.
 International Criminal Court (ICC) Prosecutor Karim Khan and Ukraine's Prosecutor General Iryna Venediktova visit a site of a mass grave in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 13, 2022. Фото: Volodymyr Petrov / Reuters / Scanpix
International Criminal Court (ICC) Prosecutor Karim Khan and Ukraine's Prosecutor General Iryna Venediktova visit a site of a mass grave in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 13, 2022. Фото: Volodymyr Petrov / Reuters / ScanpixАнна Филимонова: У нас в «Кавачае» был французский журналист, который рассказывал, что французы понятия не имеют, что российские пропагандисты говорят по телевидению. И только когда Антон Красовский записал передачу, где сказал, что нужно убивать украинских детей, топить их в речке, а потом это видео завирусилось в твиттере, массовый зритель в Европе узнал, что на самом деле говорят пропагандисты. И то, что вы говорите, это напоминает: вы как бы в курсе масштабов ада, а люди в Европе не в курсе, они не верят, что такое говорят по телевидению, что можно совершать такие преступления — у них, видимо, силен внешний имидж России, который не совпадает с ее реальным лицом.
Алексей Пономарев: А как вообще люди начинают работать в Международном уголовном суде? Это кажется небанальным выбором карьерного пути. Как у вас это произошло?
— Я не из России и не из Украины, но я училась в Москве шесть лет, и в 2014 году, когда война началась, я так и не окончила Институт стран Азии и Африки МГУ, бежала с последнего курса, с последнего семестра, просто в ужасе роняя тапки, в Берлин.
Я, несмотря на славянское имя, из Германии. Мои родители — гэдээровские реваншисты, после объединения Германии они оплакивали Германскую Демократическую Республику как прекрасное государство… Это сопоставимо с тем, как старшее поколение в России оплакивает СССР — сейчас это вылезло таким страшным гнойником.
В школе я учила русский язык, а не английский, потому что на этом настаивали родители, а еще лучшие учителя были расхватаны, а хоть какой-то иностранный язык был лучше, чем никакой.
Моя учеба в Москве тоже была мечтой моих родителей. Первые три года не скажу, что надо мной издевались, но я слышала очень много шуток про фашистский язык, про то, «как у вас там в гитлерюгенде», я много раз просила так не шутить, я много раз говорила моим одногруппникам, которые, в общем-то, были неплохими людьми, и даже преподавателям, что мне это не смешно, я считаю такие шутки оскорбительными, пожалуйста, не делайте так.
Алексей Пономарев: И даже это не помогло?
— Они не реагировали, они говорили, что у немцев нет чувства юмора, и продолжали — это было мое первое знакомство с тем, что Россия фашистское государство и фашистские настроения имеют место. Сейчас это общее место, но и тогда мне это было понятно на уровне ежедневного общения с моими одногруппниками. Они меня высмеивали за акцент, я не скажу, что очень зло, но это сильно донимало, и у меня ушло три года, чтобы от акцента избавиться.
Я записывала себя, я спрашивала совершенно незнакомых людей, что меня выдает в интонации, в каких-то отдельных словах. Некоторые объясняли, некоторые говорили, что, мол, отстань — слышно, и все. Так или иначе, от акцента я избавилась, но лучше не стало. И в 2014 году меня «волонтером» отправили на Олимпиаду в Сочи, чтобы я обеспечивала сопровождение. Я пыталась отказаться, но директор института мне сказал: «Значит, так: не поедешь — не закончишь». И все.
То есть это никакое не волонтерство, а принудительный труд. И я много раз думала, как я могла бы выдвинуть обвинение против института. Это трудно, потому что есть официальный архив олимпийского оргкомитета, есть официальный архив института — и там, и там будет подписанное мной заявление, что я сама хочу, вызываюсь быть волонтером. Сейчас, когда я имею дело с такими документами, которые подписаны якобы добровольно, я понимаю, что за ними всегда кроется какая-то история. У меня появилось интуитивное чувство, что у настоящих добровольцев, которые идут на фронт, никогда нет такого аккуратного дела, стандартного заявления, вовремя и собственноручно ими подписанного.
Алексей Пономарев: Ну, Олимпиада — это был не худший момент 2014 года...
— После Олимпиады я вернулась, и на первой же лекции преподаватель по социальной философии начал с того, что у него жена из Крыма, и наконец-то все состоялось, и он кричит в зал студентам: «Крым чей?» А они в ответ радостно: «Крым — наш!»
Дело не в том, что на меня это произвело какое-то страшное впечатление: я не очень впечатлительная. Дело в том, что мне уже было понятно, что это начало если не войны, то чего-то действительно страшного. Когда я вернулась в Берлин, мне никто не поверил. Говорили, что я преувеличиваю, что такого не может быть, что Москва — прекрасный город, а Россия — современное государство. Да, то, что «они» делают в Украине, «странно», но не более. Я помню, что слово «странно» очень часто повторялось, но вот «ни капли крови не пролито», «все в рамках цивилизованного», какие-то сумасшедшие фанатики, которые бегают по флагманскому вузу Москвы, — да не может такого быть, сходи к психологу, как у тебя были там отношения с одногруппниками, с оценками и так далее.
Это было не просто обидно, это был удар под дых, который я Германии до сих пор, пожалуй, не простила. И если бы это было только поколение моих родителей, помешанных на социалистическом прошлом, я бы еще готова была это принять. Но это говорили мои ровесники.
Уже из Берлина я просила перевести меня в немецкий университет, засчитать мне те экзамены и те часы, которые я отучилась в МГУ. Запросы со стороны университета просто игнорировали. Когда я звонила туда сама, мне говорили: «А не надо было сбегать, приезжай, по-людски поговорим и разберемся». Вот эта хамская манера мне не понаслышке знакома, я это все узнаю сейчас, когда вижу показания родителей в Украине, которые отправляли детей куда-то в летние лагеря — например, из оккупированного Херсона в Крым, — просто чтобы они не были под обстрелом, чтобы они не находились в постоянной опасности, а потом не смогли этих детей вернуть. Эти истории повторяются, и я понимаю, что это правда, просто потому, что российские чиновники действительно всегда так действуют.
Алексей Пономарев: И вы так и не смогли засчитать свою учебу в МГУ?
— Мне пришлось начинать учебу сначала, но я переехала из Германии в Австрию (тогда я шутила, что это как соседняя страна, но поменьше, говорят на той же мове, но совсем другой менталитет), сменила гражданство, окончила университет, желая попасть на работу именно в Международный уголовный суд из-за чувства, что что-то надо поправить, с чем нельзя в этом мире жить. Я искренне верю, что суд является агентом перемен. Когда сейчас говорят, что Адольф Гитлер — военный преступник, это утверждение ни у кого не вызывает сомнений. Когда говорят, что Мао Цзэдун или Иосиф Сталин — военный преступник, это в лучшем случае спорный вопрос. Разница между этими утверждениями — это Нюрнбергские процессы, поэтому, когда речь заходит о войне, я уверена, что финализировать общественный приговор может только открытый и действительно справедливый суд.
Алексей Пономарев: То есть Нюрнбергский процесс — это не просто символ?
— Это не постановочный суд. Даже в Нюрнберге и на Токийском процессе, который судил японцев, были оправданные. Это не судилище, как его любят представлять в российских источниках. Прокуратура может проиграть из-за «недоказа», и таким образом я пришла к тому, что хочу работать именно в прокуратуре.
Я знаю, с чем они имеют дело, поэтому понимаю, как я могу помочь им доказать преступления, которые совершаются в РФ. Все время, пока я училась в магистратуре, я прицельно выбирала те предметы, которые помогут мне попасть на эту стажировку. Они принимают примерно одну заявку из 700 — вы действительно должны хотеть туда попасть, вам действительно должно быть что сказать и чем помочь. И в офисе прокурора, и в секретариате, и в президиуме суда там тоже принимают стажеров и всегда внимательно смотрят, даже если это совсем наивные предложения вроде: «Я хочу восстановить попранную справедливость, чтобы во всем мире был мир».
Главный вопрос — как это сделать? Если ваши идеи наивны, но применимы, это ресурс, который суд очень интересует.
Работа на суд мне помогла справиться с травматическим опытом. Не столько хочется свести счеты, сколько за себя обидно до такой степени, что хочется баланс поправить. Я чувствую, что могу что-то сделать с тем, что я видела в 2014 году в Москве, в том числе и простить своих соотечественников, которые мне в 2014 году в Германии не поверили, что все было действительно так плохо, как я рассказываю.
Сейчас я вижу, что до них доходит. Долго, с трудом, но действительно доходит — я понимаю, что у меня тогда не было никаких шансов.
Сообщение «Хочется не свести счеты, а баланс поправить» появились сначала на Журнал «Холод».

 1 year ago
47
1 year ago
47